Андрей Гасилин: Рационализм vs. эмпиризм. Истоки научного метода (Л.1)
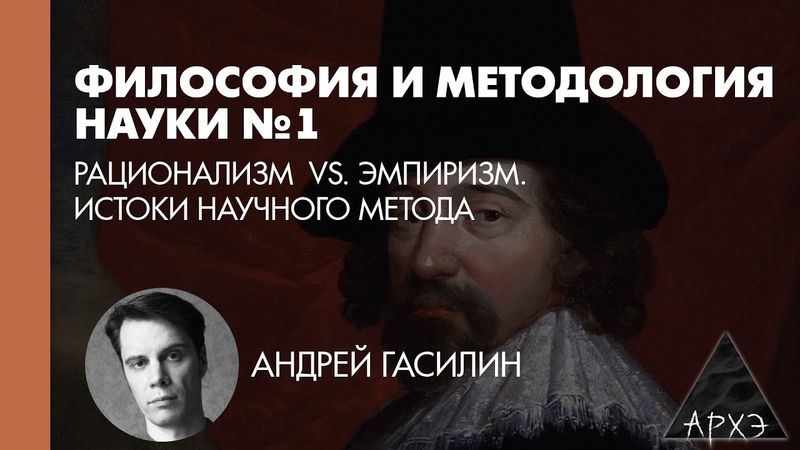
Информация о загрузке и деталях видео Андрей Гасилин: Рационализм vs. эмпиризм. Истоки научного метода (Л.1)
Автор:
Центр АрхэДата публикации:
10.03.2025Просмотров:
3.2KОписание:
Транскрибация видео
Добрый вечер.
У нас сегодня начинается курс по философии и методологии науки.
Меня зовут Андрей Гасилин, я кандидат философских наук, старший научный сотрудник Конститута научной информации по общественным наукам, и не он ранен.
И это, наверное, уже третий курс философии, методологии и науки, который я читаю в Архе.
Предыдущие два я читал довольно давно, наверное, год три или четыре назад.
С тех пор многое изменилось.
Курс я сократил достаточно сильно.
И сейчас я представляю курс в шесть лекций.
Может быть, с анонсом в интернете вы ознакомились, в общих чертах представляете, о чем идет речь.
Но я хотел бы еще несколько слов сказать по поводу того, о чем мы будем говорить все это время.
Философия, методология, науки — это раздел философии современной,
который занимается исследованием науки не с точки зрения истории, а с точки зрения формирования научного метода, формирования самой научной рациональности.
И этот предмет достаточно сильно эволюционировал, начиная с конца XIX века, когда он в какой-то форме начал возникать.
Я...
Хотел построить этот курс следующим образом.
Сначала первую лекцию посвятить каким-то вводным понятиям, достаточно базовым, простым понятиям.
Может быть, многое из того, что я сегодня расскажу, вы так или иначе знаете.
Это основы, по сути дела, из которых, на мой взгляд, дальше идти просто невозможно.
А потом будет историческая часть.
Начиная со второй лекции, я буду рассказывать о истории позитивистских течений, потому что их было три.
О постпозитивизме, о различных подходах к науке, так скажем, более современных, более...
неклассических и так называемых пост не классических связанных с именами томаса куна поля фейерабенда и
Завершать я буду обзором достаточно свежего направления, сложившегося в рамках социологии и науки.
Это направление называется актроносетевая теория, и основным ее представителем является Бруно Латор.
От Бруно Латура мы фактически будем заканчивать, но чтобы прийти к Бруно Лату через позитивистов, через Карла Поппера, через Томаса Куна и Ферабина, о которых я уже говорил, надо как-то объяснить основы, с чего, что называется, все начиналось.
И, собственно, сегодня об этом будем говорить.
Буквально один организационный момент.
Я предпочитаю коммуникативный формат, поэтому если вы в какой-то момент захотите поучаствовать в обсуждении, что называется, вы можете меня, в общем-то, прерывать поднятием руки, очень явной демонстрацией того, что вы хотите что-то сказать.
И какие-то моменты мы можем прояснять с вами.
Я думаю, что слишком сильно, конечно, углубляться в вопросы не стоит.
Ну, чтобы, во-первых, например, не утомить остальных слушателей иногда...
интересует какая-то подробность, в которую хочется закопаться, я верну вас обратно к ходу движения первоначального.
Но в любом случае вот этот интерес и уточнение, они не возбраняются, и можно не откладывать вопросы на конец лекции, как это обычно бывает на студенческих курсах.
То есть я совершенно спокойно отношусь к вмешательству.
Можно пользоваться паузами, которых я делаю достаточно много на самом деле.
вполне сознательно.
Сам по себе материал будет сегодня довольно плотный, поэтому все полтора часа я могу совершенно спокойно говорить, не переставая.
Но, во-первых, мне кажется, это утомительно для вас.
Во-вторых, как правило, когда принимаешь информацию пассивно, то есть просто слушаешь, откладывается не так много.
То есть лучше все-таки участвовать в этом самом производстве знания, так сказать.
Ну, давайте начнем.
Начать я хотел, собственно, по классике с античной эпохи.
Такая преамбула к рассмотрению ключевых вопросов философии и науки.
И античная эпоха
Когда мы к ней обращаемся, на мой взгляд, мы должны задаться вопросом.
Во-первых, была ли там наука в принципе?
Даже из школьных курсов математики, физики, геометрии мы знаем, что в античности что-то такое было.
Были теоремы Пифагора и Фалеса.
Нам рассказывали на уроках математики, что вообще в Египте была какая-то там прото-наука.
Даже в Вавилоне было древним.
Нечто научное там было, астрономию там изучали.
И возникает вопрос, вот можно ли эти...
формы знания, так скажем, назвать наукой?
В школьной перспективе можно.
Ответ таков.
Да, это протонаука.
То есть это некая рациональная форма познания, которая, в общем-то, обладает признаками научности.
Но с точки зрения современной науки, сформировавшейся в новое время,
Это неполноценная наука.
И одна из важнейших характеристик, которая отсутствует в этой самой науке нового времени, науке, прошу прощения, античности, прото-науки, это отсутствие такого элемента научного познания, как эксперимент.
Эксперимента в античной науке просто не было.
Вы можете возразить, а как же там знаменитая история с Архимедом, который лежал в какой-то ванной, что-то такое там понял, вскочил, побежал, эврик и прочее.
И это не эксперимент.
Как ни странно, это не эксперимент.
Хотя это очень похоже внешне на экспериментальное открытие, но это не эксперимент.
И почему это не эксперимент, я, пожалуй, объясню чуть позже.
То есть пока прошу поверить на слово, что это, я бы сказал, случайное открытие.
Совершенно случайное.
Просто интуиция, наблюдательность плюс определенные обстоятельства, в которых он оказался, этот ученый.
Эксперимента там не было.
И ни один из античных
научных трактатов, не рассказывает нам ни о чем, что мы можем назвать экспериментом.
Так вот, чем же цена всё-таки эта протонаука, этот период?
Говорит, что он никак не отразился на дальнейшем формировании научного познания.
Конечно, нельзя.
Но вот я перечислил здесь несколько важных характеристик античной науки.
Во-первых, в этот период начали складываться базовые аксиоматики,
всем известные геометрии Евклида, астрономию Птолемея, то есть некие базовые системы представлений, которые позволили выстраивать некое последовательное знание, некую последовательную картину мира.
в плоскостном режиме, если в случае с геометрией, и в режиме наблюдения небесных сфер, если говорить об астрономии.
В этих аксиоматиках человечество пребывало на протяжении многих веков.
справедливость, вернее, так скажем, универсальность астрономии Птолемея, как вы, наверное, знаете, была провернута только на рубеже 15-16 веков, но окончательно в 16 веке эта парадигма утвердилась.
Геометрия Евклида царила аж до 19 века, и только геометрия Лобачевского смогла ее потеснить.
И то, ну как потеснить?
Она же полностью ее не нейтрализовала.
Геометрией Евклида мы пользуемся в школе.
Это геометрия Евклида.
Другое дело, что аксиоматика Лобачевского и позже Риммана показали, что возможны другие непротиворечивые аксиоматические системы.
И мы можем описывать мир и с помощью геометрии Евклида, и с помощью геометрии Лобачевского.
То есть она заняла почётное место, я говорю о геометрии Евклида, почётное место среди классических аксиматических систем.
Но никуда не ушла при этом.
Что ещё было ценного в античной науке?
Формирование фундаментальных научных понятий.
Вы знаете, что греческие философы очень много поработали над тем, что фактически сформировали вокабуляр современной науки.
Ну, во многих отраслях.
Понятие энергии, понятие материи, материя.
Понятие сущности, времени, хорошо, время, конечно, было известно и поэтам, это понятно, но вот эти наукообразные размышления о времени как о некой абстрактной сущности, они начались только во времена Аристотеля.
Многие из физических понятий, соответственно, математических понятий и, в последнюю очередь, понятий, свойственных филологии современной, возникли тогда.
И без этой работы мы просто не имели бы того, что имеем.
Далее я выделил формирование первых теоретических подходов, но точнее было бы их назвать методами научными или протонаучными методами.
Хотя многие из них, в общем-то, уже можно назвать вполне себе вошедшими в инструментарий современных ученых.
Маевтику я здесь указал Платона.
В двух словах, если не знаете, что это такое, это...
Метод извлечения или нахождения истины в процессе разговора.
Когда тот, кто практикует этот метод, спрашивает у своего собеседника, задает ему какие-то наводящие вопросы, предполагающие ответ «да» или «нет».
И постепенно, продвигаясь от вопроса к вопросу и добиваясь от него положительного отрицательного ответа, он как бы приводит его к некому открытию.
Сам Платон считал, что
Знание о математических сущностях присуще человеку от рождения.
То есть человек не узнает о тематических истинах от своих учителей, по сути.
Они всего лишь помогают ему припомнить то, что он и так знает.
И поэтому метод маевтики по Платону – это просто способ…
в излече с памяти те истины, которые и так человеку известны.
Ну, с точки зрения, конечно, современной математики, наверное, это будет звучать довольно странно.
Это сейчас сугубо номиналистическая дисциплина, то есть она верит в то, что объекты называются так или иначе, математические объекты вводятся, и они не существуют до их называния, по большому счёту.
Хотя я встречал и математиков-идеалистов, которые, в общем-то, созвучны Платону в этом отношении.
Которые тоже считают, что реально есть там, например, интегралы.
Ну, то есть имеется в виду, что вот есть первосущность, некая первосущность интеграл, а математик просто его открывает.
А не называет нечто таким образом.
По поводу логики Аристотеля, ну, тут говорить много не надо.
Мы постоянно сами пользуемся.
Формальная логика стала неотъемлемой частью нашей жизни.
Когда-то человек заложил вот эти фундаментальные основы, без которых бы, не знаю, компьютер не существовал, или смартфон, который мы держим каждый день в руках.
Там как бы всё на формальном логическом аппарате основано.
Ну, дальнейшие пункты, наверное, особо сильно раскрывать не буду, кроме, наверное, того, что обозначил как условная различимость философии, теологии и науки.
Надо понимать, что в античности эти три сферы...
не получили строгого оформления.
Они были слиты во нечто одно.
И философия имела во многих философских направлениях черты теологии.
Она говорила о Боге, о божественном, о перводвигателе, если касаться Аристотеля, опять же, и Платона.
И
Она же была и наукой.
То есть просто-напросто, фокусируясь на более частных вопросах, она становилась наукой.
И, строго говоря, мы не могли вообще, в принципе, говорить о том, что вот здесь у нас философия, а здесь наука.
Философия занималась всем, по большому счёту.
Ну, были, конечно, например, вот я привёл портрет Геродота, были профессиональные историки, они не были философами при этом.
Но определенные, так сказать, философические вкрапления и у них были, как и у того же Аминту, уже...
Архимеда и Пифагора, а Пифагор вообще был философом, начальником философской школы пифагорейской.
Ну, то есть мы не можем в античности четко разделить эти три направления или эти три формы мысли – философскую, научную –
и теологическую.
Забегая вперед, говоря о нашем времени, сейчас философия очень сильно отличается от науки тем, что большинство философов вообще не считают свой предмет научным.
Парадоксальным образом, хотя...
Ему учат в университетах, есть институт философии Российской академии наук.
Упускается огромное количество монографий по философии.
Но многие начинают свои курсы с того, что философия не является научной, строго говоря, дисциплиной.
То есть философия – это некая мета-дисциплина, выходящая немножечко за рамки науки, вобравшая в себя кое-что и в русском изводе из литературы вообще-то.
в каких-то направлениях из той же теологии, кстати.
То есть это, опять же, с строго научной точки зрения, она, ну как сказать, не может быть причислена к компендиуму, например, точных наук.
Больше гуманитарных, конечно, но и с гуманитариями у философов часто бывают проблемы.
Последний пункт расшифрую по поводу эмпирических методов.
В современной науке принято выделять несколько эмпирических методов.
Это наблюдение, это измерение и уже помянутый мной эксперимент.
В античной науке, как я уже сказал, эксперимента отсутствует.
В основном учёные пользуются в это время
органами чувств и какими-то примитивными приборами, техниками измерения.
Ну, то есть измерять они могут, но, например, такие сложные приборы, как тонометр какой-нибудь, микроскоп, телескоп, в их арсенале отсутствуют, соответственно.
Только самые примитивные приборы.
Итак, перейдем к средним векам.
Ну, вы, наверное, знаете такую идеологему, подчеркиваю, именно идеологему о том, что средние века были периодом, когда наука пребывала в дичайшем упадке, и вообще там происходило что-то жуткое.
То есть полная мракобесия и ничего интересного.
Я бы согласился с этим, может быть, примитивно к небольшому периоду.
Примерно с пятого и по десятый.
Лучше, конечно, корректнее девятый.
век нашей эры.
В это время действительно в Европе на осколках Великой Римской империи происходило какое-то хаотическое бурление, и ничего ценного с точки зрения науки на этой территории не происходило всерьез.
Хотя иногда некие вспохи типа Каролинкского возрождения
связанного с именем Иоанна Скотта Риогены, все-таки было.
Но, как правило, это были такие теологи-переводчики, которые заново открывали для себя древние тексты из Восточной Римской империи, полученные, как правило.
По большей части, действительно, до IX-X века ничего интересного не происходило.
Но позднее средневековье было очень богато на открытие действительности.
Во-первых, благодаря крестовым походам и соответствующим завоеваниям было открыто огромное количество текстов,
которые до этого были неизвестны европейским интеллектуалам.
Как вы знаете, наверное, арабы на протяжении вполне раннего Средневековья активно изучали тексты Аристотеля.
Авиценна, Ибн Сина и прочие арабские ученые, они были знатоками Аристотеля и продолжателем Аристотелевской линии в естествознании.
После завоевания арабского мира огромное количество арабских текстов попало, собственно, в Европу и начало активно изучаться уже европейскими интеллектуалами.
И благодаря арабам европейцы переоткрыли Аристотеля и просто-таки сделали его неким первофилософом, первоучёным.
И аристотелевская метафизика, аристотелевская физика стали просто достоянием интеллектуальной общественности Европы, начали активно изучаться.
В принципе, в позднее Средневековье появляются университеты, такое явление, как университет.
Возник он изначально во Франции, как вы знаете, наверное.
Функцией его была подготовка теологических кадров, священников.
Но достаточно быстро университет получил автономию от светских властей.
И, так скажем, первые свободы в изучении предмета, они появились именно в университетском сословии.
Например, разные трактовки, понятия духа или некой вселенской души.
Об этом спорили философы позднего Средневековья.
Но если не вдаваться в теологические дебри и спросить, чем все-таки была цена наука Средних веков, прошу прощения, можно ответить совершенно однозначно на этот вопрос.
Во-первых, в Средние века развивалась логика, продолжала развиваться.
Переоткрытый Аристотель был усовершенствован.
Например, появилась модальная логика.
Аристотель ее не вводил, он не знал, что это такое.
Вполне себе существующий раздел Лоекева.
Активно развивалась теория и практика аргументации.
Особое культурное явление – это схоластические диспуты.
Вот историкам науки, на мой взгляд, очень надо пристальное внимание обратить на этот феномен.
То, как вообще подавалось знание в эту эпоху и чему учили в университетах, на мой взгляд, могло бы быть полезно и сейчас.
Например, развивалась культура спорта, культура диспута.
В такой степени, которой, наверное, сейчас никто не владеет.
Более того, диспуты приравнивались фактически к рыцарским поединкам.
И теологи, выходящие каждый со своей системой тезисов, практически их столкновение было столь же зрелищно, как и столкновение на рыцарских турнирах вот этих вот.
Там были объективно победители, объективно побежденные.
И тот, кто выходил победителем, он обычно обретал фантастическую славу.
Как это могло быть?
Сложно себе представить сейчас такой совершенный диспут, в котором по окончании него, по окончании спора однозначно объявляют победителя.
А побежденный, такой вот грустный, поверженный, значит, вот идет и плачет во своясе.
Совершенно убежденный, что да, его победили, его разгромили.
Сейчас это сложно представимо.
То есть культура спора не предполагает однозначный побед до одной из сторон.
Тогда это был закономерный результат любого поединка.
Тот же самый Пьеро Беляр, чьи фотографии здесь указаны, памятник.
Пьеро Беляр прославился тем, что ездил по городам,
и вызывал в каждом городе, делал клич, вызывал наиболее искусных полемистов, самых талантливых полемистов, с которыми он мог бы вступить в диспут.
Как правило, на вызов отвечали.
Собиралась некая ассамблея из местных теологов и ученых,
на глазах у изумлённой, что называется, публики, в присутствии многочисленных свидетелей, разворачивалось вот это вот противоборство.
И, как правило, Пьерро Беляр выходил победителем.
Он, по сути, имел такой образ странствующего теологического рыцаря, который выходил из турниров всё время победителем.
Это очень забавный, на самом деле, феномен.
Не просто, как сказать, специфический для времени, но заставляющий подумать о том, что мы утратили в чём-то.
Да, разумеется, развивается в это время и филология, и поэтика.
Поэтических текстов пишется немало.
Я здесь привёл ещё одно изображение Николая Кузанского.
Он был известным математиком уже совсем позднего Средневековья.
и известным филологом.
Да, ну и еще один момент, который утаивают многие идеологи просвещения.
Помните, я начал с того, что существует некая идеологема средних веков, как в веках темных.
Дело в том, что, на мой взгляд, эта идеологема сложилась в эпоху просвещения
И была определённая причина, почему она возникла.
Наука, которая набирала силу тогда,
рассматривала церковь, подчеркиваю церковь, а не религию, именно церковь, эти вещи стоит различать, как своего жесткого конкурента, мешавшего ему ей развиваться, мешавшего ей становиться на ноги.
Действительно, церковь ставила палки в колеса вот этим...
первым ученым эпохи нового времени, и действительно своей борьбой с еретиками во многом мешало развитию вот этого естествознания, нового естествознания, набирающего силу.
И борьба эта зачастую разворачивалась не на жизнь, а на смерть.
Историю Джордана Бруна, к которому я сейчас обращусь, вы прекрасно знаете.
Историю Галилея, не менее трагическую.
Ну, вернее, менее трагическую.
Он все-таки не погиб в результате, но, в общем-то, накал страсти был велик.
То есть борьба шла буквально не на жизнь, а на смерть.
И среди нового поколения просветителей, в частности Вольтера, Дидро, Монтеске, французских просветителей, сложилось вот это представление о церкви как о том, что тормозит прогресс.
И сложилась эта идеологема о том, что на протяжении всего Средневековья
церковь душила науки, не давала им развиваться.
И поэтому, собственно, этот период абсолютного мракобесия, ничего там интересного не происходило, и человечеству стоит просто рассматривать этот период как сон разума, фактически.
Но
Поздние исследования, например, исследования такого замечательного историка науки, как Александр Койре, француз российского происхождения, показали, что уже в поздние дневековья складывались основания для вот этих самых открытий нового времени.
Один из примеров, здесь я привёл, это учение об импульсах Жанна Бурдиана.
Само понятие импульса сложилось не в новое время, не в новой временной науке, хотя именно в ней оно получило наиболее такое сильное и математически обоснованное раскрытие.
Сейчас учение об импульсах является частью школьной физики.
Мы это как некий азы воспринимаем.
В новое время это была достаточно значимая часть термодинамики.
На нём во многом она строилась.
Но чтобы в принципе мыслить движение тела из вот этой перспективы, как нечто, что движется само по себе, получившее импульс извне, нужно было, чтобы к этому когда-то обратились к теологе с вопросом о том, почему нечто движется.
Дело в том, что в физике Аристотеля, который долгое время руководствовались ученые, в том числе и в Средневековье, существует только два типа движения.
Это круговое движение.
Аристотель считал, что оно присуще планетам, Солнцу, Луне, небесным светилам.
И постоянное прямолинейное движение.
Непрерывное.
Постоянное непрерывное прямолинейное движение.
Но при этом у этого непрерывного движения всегда было начало и был конец.
То есть оно непрерывное и постоянно было только в процессе движения.
Но в начале всегда был момент его старта и всегда был конец.
была финальная точка этого движения.
Как и человеческая жизнь, как и существование любого объекта на Земле, согласно Аристотелю, всегда любое движение было конечно.
У любого движения была своя жизнь, свое рождение и своя смерть.
Особенность античного восприятия в физике заключалась в том, что мир поделен на две сферы фактически — земную сферу и небесную сферу.
И законы земной сферы, законы Земли — это законы бренных вещей.
Здесь всё возникает и уничтожается.
Здесь ничто не существует вечно.
А вот в небесном мире, напротив, все существует вечно и ничего не уничтожается.
Вот этот любопытный контраст между миром земным и миром небесным, очень понравившийся средневековым теологам,
Он господствовал в науке в Средневековье на протяжении очень долгого времени, пока, собственно, не были открыты те самые импульсы, импульсное движение.
И оказалось, что, в общем-то, Аристотелев, скорее всего, был неправ.
Я не буду сейчас сильно углубляться в этот момент, предлагаю перейти к науке эпохи Возрождения.
Собственно, в Возрождении начинает формироваться наука в современном понимании, как я уже сказал.
Именно в эпоху Возрождения появляется экспериментальная наука.
Эксперимент.
Как правило, эксперимент, культуру эксперимента, экспериментальный метод связывают с именем Галилео Галилеа.
Принято так.
Я не уверен, что он был единственным, кто делал акцент в своих исследованиях именно на экспериментальную науку.
Возможно, и другие были.
Вообще можно сказать, что и алхимики уже начинали заниматься чем-то похожим на экспериментальную науку.
Алхимики жили, как вы знаете, уже в позднее средневековье.
Но...
В экспериментальной науке Галилея появилось нечто, что у алхимиков не было.
Что такое эксперимент у Галилеи и что такое в принципе эксперимент?
И чем он отличается как раз от наблюдений, измерений и других эмпирических методов познания?
Дело в том, что в рамках эксперимента природа как бы запирается
в искусственно сконструированных, ограничивающих ее условиях, зачастую абсолютно противоестественных, которых в обыденной жизни никогда не встретишь.
Эксперимент — это как бы комбинация, с одной стороны,
некого эмпирического опыта, то есть непосредственно наблюдения за поведением физических объектов, и некой мысленной схемы, в которую это поведение уложено.
То есть эксперимент предполагает, что сначала вы сконструировали в голове некие условия, идеальные условия, затем организовали как-то пространство так, чтобы эти условия воспроизвести,
А потом в эти условия положили объект, поместили объект, который стал определённым образом себя вести в этих условиях.
Классические случаи, опять же, из школьной физики.
Знаменитый опыт Галилея с запаянной трубкой.
Известно вот это падение ядра и дробины с...
Падающей башни, знаменитая.
Но был более совершенный вариант.
Запаянная стеклянная трубка, туда помещалось дробин и перо.
И Галилей воочию показывал, что падение происходит с этих двух объектов с одинаковой скоростью.
Это было контринтуитивно.
И спросить любого человека, незнакомого с основами физики, как думаешь, что быстрее будет падать дробина или перо, естественно, он скажет дробина, разумеется.
Это знание основано на его опыте.
Глили показывает, что в безвоздушном пространстве, в условиях вакуума нет
Эти тела будут падать абсолютно с одинаковой скоростью.
То есть единственное, что препятствует уравниванию скоростей, это сопротивление воздуха.
Но где найти место, где воздуха нет?
На Земле такого не встретишь.
Ну, не знаю, то есть надо в какую-нибудь морскую впадину попасть или в какую-нибудь глубокую подземлю, найти место, где нет воздуха.
Но это сложно.
Таким образом, возникает проблема, которая решается с помощью определенных технических действий.
То есть некая стеклянная колба...
некий насос, с помощью которого этот воздух откачивают, и совершенно искусственная вещь, вакуум в этой самой трубке.
В естественной среде вакуум не существует, ну, по крайней мере, в стратосфере.
Галилей организует это несуществующее пространство и благодаря нему доказывает справедливость своей гипотезы.
Дальше идут многие другие опыты, не менее неестественные.
То есть он все время помещает объекты в неестественные условия.
Он как бы насилует в некотором смысле природу, заставляя ее поделиться какими-то скрытыми законами, истинами, скрытыми от обыденного взгляда.
Это и есть основа эксперимента.
Эксперимент — это нечто очень неестественное на самом деле.
Ну, вы можете сами развить эту мысль, потому что даже современные эксперименты, они действительно помещают объекты не только физические, но и, например, людей в очень неестественные условия.
Стэнфордский эксперимент, да?
Припомните.
Это такое забавное, странное насилие над человеческим естеством, по сути дела, которые зачем-то это сделали, но в результате получили какие-то любопытные выводы.
Такое сложно было бы получить, опять же, в естественной среде.
Частота эксперимента не предполагает наблюдение, например, за реальными заключенными.
Если вы знаете ход этого эксперимента.
Не буду сейчас, извините, в это углубляться, чтобы просто не останавливаться, не уходить в сторону.
На мой взгляд, достаточно важная характеристика нового времени — это введение новых технических средств, позволяющих расширить способность человеческого опознания.
Если до нового времени человек вооружён по большей части только своими органами восприятия,
глаз, ухо, его тактильные свойства, тактильные, вернее, рецепторы, то здесь он вооружается не чем-то, что расширяет его способности.
у того же самого Галилея уже появляется в некотором смысле магический артефакт.
Именно так его назвал Поль Фейераббинд.
Мы будем еще говорить об этом философе науки.
С точки зрения Фейераббинда Галилей пользовался телескопом именно как артефактом.
В его время телескоп был еще очень несовершенен.
И, по правде говоря, он давал довольно серьёзные искажения тех предметов, которые с помощью него наблюдались.
Поэтому говорить о точности применительно к телескопам Галилея нельзя какой-то.
Они были неточными приборами, даже, может быть, в чём-то менее точными, чем острый глаз.
Но они производили на тех, кто с ними имел дело, фантастический эффект.
Они фактически делали нечто чудесное.
Например, они позволяли человеку увидеть, как будто стоящим рядом фигуру другого человека, находящегося за много километров от него, стоящего, например, на какой-нибудь стене.
Этот фокус проделал Галилей для того, чтобы привлечь сторонников своих теорий.
Люди зачастую отказывались смотреть телескоп, боясь увидеть то, что им обещали, что они увидят.
Потому что некоторые откровенно считают это колдовством.
Способность увеличивать объекты, находящиеся на значительном расстоянии.
То есть вот эти, на самом деле, примитивные приборы оказывали фантастическое действие на современников, которые мы, наверное, даже вообразить себе не можем.
Они поражали, они в ступор вгоняли.
И поначалу именно эмоциональное воздействие этого технического аппарата двигало вот эту самую новую науку.
Могу напомнить машины военные Леонардо да Винчи, потому что он чудесный иногда, и другие его изобретения.
Они как бы смещали грань между привычным, обыденным и чудесным.
делая чудесное вполне возможным и даже вот просто иногда осязаемым.
То есть через какое-то чудо наука добывала новых сторонников и фактически захватывала новое такое эпистемологическое пространство.
То есть объясняя мир не хуже учений древних.
Но всё-таки наука эпохи Возрождения – это период как раз формирования современной науки.
Там уже закладываются основы.
Но всё ещё, строго говоря, учёными этих людей назвать нельзя, потому что они балансируют зачастую на грани науки и магии.
И многие из них откровенно, как бы...
называют себя магами и ничуть не стесняясь и в общем-то с точки зрения современной занимаются абсолютно лженаукой я предлагаю перейти уже к новому времени и
и, наверное, к центральной теме нашей сегодняшней встречи.
Противостояние двух эпистемологических позиций или двух подходов к научному познанию.
Это рационализм и эмпиризм.
Собственно, в новое время, уже на рубеже XVI-XVII веков, начинает складываться, я бы сказал, новая культура познания.
Познание становится очень строгой деятельностью, очень требуется высокая точность от тех, кто занимается наукой.
И вводятся определенные стандарты, позволяющие отличить
настоящую науку от какого-то фиглярства, от какой-то вот... Тогда еще, конечно, нет понятия лженауки, но есть уже понимание профанации, например.
Уже есть развлечение того, что вот есть настоящие ученые, обеспокоенные поиском истины, а есть какие-то фигляры, которые просто занимаются чем-то наукообразным для того, чтобы кого-то впечатлить.
И у многих ведущих ученых, в том числе, например, у Рене Декарта, французского математика, философа, возникает вот этот фундаментальный вопрос.
А как мне узнать, что знания, которые я получаю,
является истинным в действительности, а не чем-то, что плодит мой там лихорадный, взбудораженный разум.
Слишком много теорий, самых фантастических, было предложено в эпоху Возрождения.
Ну, там достаточно посчитать алхимические трактаты, трактаты астрономов, что только они нам не понапридумывали, как они только не представляли процесс космогенеза и законы природы.
Слишком много.
Но все это были продукты воображения.
Все это в нашем современном понимании были просто такие литературные миры.
Декарт одним из первых задался вопросом, так как вот это вот безумное воображение отличить от истинного познания, от познания истины?
С чего начать и как, собственно, двигаться?
В свои рассуждения он изложил в знаменитом сочинении «Рассуждение о методе».
Одно, наверное, из самых сильных в истории философии сочинений и настоящей оди-методу, одинаучному методу.
В XVII веке фактически шёл спор о том, чему дать предпочтение среди учёных.
Вот этому рационалистическому методу Декарта, я немножечко подробнее еще о нем расскажу чуть позже, сейчас просто преамбула, или другому методу, скорее основанному на эмпирическом познании, сложившемся уже в англосаксонской традиции.
Так повелось, что континентальная традиция, философская, она всегда была более рационалистической.
континентальный философ, французы, немцы больше всегда, как сказать, полагались не на достоверность чувств, а на строгость рассуждений.
Всегда больше на логику полагались, нежели на чувственные данные.
А англосаксы, опять же, так повелось, всегда больше акцент делали на чувственное опознание.
И это деление в действительности произошло не в новое время, чуть-чуть раньше.
Уже в позднее средневековье сформировалось вполне себе две школы, так называемая реалистическая и так называемая номиналистическая.
Номиналисты и реалисты.
Так вот, реалисты в основном базировались на континенте, а номиналисты в основном были либо с островов, либо там просто жили.
И вот, судя по всему, именно из номиналистической традиции и выросла такая страсть к эмпирическому познанию у предков нынешних англичан.
Французы и немцы были гораздо меньше к этому склонны.
Соответственно, стали формироваться две традиции.
Континентальная, делающая упор на рацию.
Причём рацию в таком латинском понимании.
А изначально рацию – это счёт, это просчёт.
То есть это строгая логическая комбинаторика, можно так сказать, с одной стороны.
И с другой стороны – это эмпиризм, который в главу угла кладёт опыт.
Опытное опознание.
Империзм делает, соответственно, акцент на чувственном восприятии, на том, какую информацию получают наши органы восприятия.
Рационалисты на нашу способность рассуждения.
Именно столкновение этих двух позиций, по сути, и породило науку в нашем современном понимании, вобравшую в себя оба этих подхода, и рационалистический, и эмпирический.
И до сих пор ученые, занимающиеся наукой, вынуждены постоянно, так скажем, определяться с долей эмпирики и рационализма в своих исследованиях.
Что больше, условно говоря, даже если говорить о data science, что больше данных или каких-то моделей?
Или аналитики?
То есть меньше даты, больше аналитики, или больше аналитики, меньше даты?
Или лучше меньше выборки, но лучше схемы анализа?
То есть проблема соотношения эмпирического и рационального в нашем познании, уходя корнями в то время, она продолжает быть очень сильно актуальной.
На что больше полагаться?
На эмпирические данные или на свою собственную способность к вычислительной деятельности?
Назовем это так сейчас.
Но начинается все с этого.
Итак, Рене Декарт.
Более подробно.
Метод Рене Декарта строится по аналогии с математическим методом, строго геометрическим методом.
То есть Декарт, по большому счёту, пытается выстраивать всё научное опознание по стандартам геометрии.
Его интуиция заключается в том, что строгое научное опознание должно начинаться с неких очевидных
не требующих доказательства истин, таких как геометрические аксиомы.
Геометрические аксиомы наглядны и не требуют доказательств.
Их можно взять на веру.
Они настолько очевидны.
Такими же должны быть и фундаментальные научные истины.
А на них уже, как на основе,
должны выстраиваться сначала примитивные теоремы, условно говоря, или примитивные какие-то закономерности выводиться, а затем всё более и более сложные.
Ну, по сути дела, Декарт предлагает выстраивать здание науки от простого к сложному, от базовых понятий, от базовых аксиом к всё более и более сложным конструкциям.
Таким образом, всё более точно описывая сложные объекты, сложные явления и так далее и тому подобное.
Но метод Декарт также предполагает, что любой сложный объект, какой бы сложный он ни был, хоть планетарная система, хоть там, не знаю, какой-нибудь горный массив и так далее, он может быть разложен на вот эти вот, и должен быть разложен на эти единицы, из которых он состоит, всё более и более частные.
То есть для познания сложных объектов Декарт предлагает такую стройную аналитику, разлагать их на все более и более простые, доходя до самых-самых-самых простых, в конечном счете.
Дойдя до самых базовых элементов, можно понять, что лежит в основании того или иного явления.
И объяснить его.
Объяснить, например, его природу, предсказать его течение и прочее.
Соответственно, в методе Декарта вот эта ясность и очевидность становятся главным критерием научного познания.
Я имею в виду основы научного познания.
То есть начинается научное опознание с ясных и очевидных вещей.
Опять же, я не стану сейчас сильно углубляться в обсуждение такого сложного вопроса, что, собственно, Декарт понимал под очевидностью и ясностью.
Ну, просто вот примем это на веру.
Вот что есть некие ясные, очевидные истины.
Как дважды два четыре.
Ну вот есть.
И на них строится знание.
Фрэнсис Бэком, в свою очередь, будучи профессиональным политиком, естественным испытателем, философом, предлагает свой собственный подход, свой собственный путь.
Кстати, просто небольшое отступление, оговорка.
Представьте себе современного политика, который профессионально еще и естествознанием занимается.
Практически невозможно.
Ну, такое время, когда это можно было совмещать.
Кстати, умер человек в результате простуды после опыта по замораживанию курицы.
Наши современные рефрижераторы во многом это его заслуга.
Удивительно сейчас.
Вот.
Ну, знаменит он тем, что написал новый «Органон», трактат о восстановлении наук.
Понятно, что «Органон» — это отсылка к «Органону Аристотеля».
«Органон Аристотель» — это, в свою очередь, инструмент познания.
Это логический трактат.
Фрэнсис Бэкон, с одной стороны, как бы конкурирует с Аристотелем, считает аристотелевскую науку безнадежно устаревшей, с другой стороны, он предлагает нечто совершенно новое, чем он предлагает эту самую науку заменить.
Что, собственно, предлагает Бэкон?
Он предлагает...
рассмотреть читателю три способа познания.
Первый путь, так называемый путь паука.
Это путь, в котором философ или ученый, тогда это, опять же, одно и то же, малоразличимое,
Плетет знания из самого себя, как паук плетет из себя паутину.
В результате у него получаются фантастически красивые конструкции.
Стройные, математически выверенные, все замечательно.
Но проблема в том, что все это исключительно продукт секреции его желез.
То есть это плод его собственного ума.
к окружающей действительности это все имеет очень опосредованное отношение.
Ну да, эти конструкции красивы, но в общем-то они довольно аутичны.
И как бы истину в них далеко не всегда можно поймать.
Это критика от Бекона, того, что делает Декарт.
На самом деле паук — это фактически образ картезианской философии.
Картезий — это Декарт.
Следующий путь, о котором пишет Бекон, — это путь муравья.
Это путь ульгарного империзма.
когда многочисленные в его время вот эти вот открыватели новых земель тащат с собой огромное количество различных артефактов.
Ну, просто фактически они занимаются коллекционированием.
Вот коллекциониров в его времени было много.
То, что, ну...
Появлялось все больше экзотичных каких-то явлений, стран и так далее и тому подобное.
И коллекционеры этих явлений составляли огромные списки разных странных вещей, явлений, буквально каталоги, и наслаждались этим перечислением каких-то странных штук.
Ни секунды не заботиться о том, чтобы выловить определенные закономерности, лежащие в основе формирования вот этих явлений, например, каких-то существ и так далее.
Вообще, надо сказать, что эпохи Возрождения, это еще одна ее черта, было свойственно серьезное любопытство к, так скажем...
экзотическим проявлением действительности и составлением определенных коллекций.
То есть там было много коллекционеров.
Если когда-нибудь смотрели Питера Гринова «Чемоданы Тульса-Люпера», есть такой замечательный фильм
Там человек сошел с ума на коллекционирование вещей.
Вот он в чемоданы собирает самые разные вещи.
С одной стороны, ты понимаешь, что человек, в общем-то, безумен.
С другой стороны, в этом есть свой шарм.
В каждом чемодане у него хранятся объекты определенного типа.
И этих чемоданов огромное количество.
Но это вот такое помешательство коллекционирования.
В некотором смысле, на мой взгляд, Кутельс-Люпер отражает вот это самое возрожденческое отношение к миру.
Мир — это собрание каких-то странных артефактов, и мы занимаемся коллекционированием этих артефактов.
Мы ученые, имеется в виду.
Так вот, Бекон выступает против этого, против такого отношения к познанию, считая его, в общем-то, достаточно неплодотворным.
Ну да, ученый-эмпирик, такой вульгарный эмпирик, может натащить в свою нору огромное количество до сих пор непознанных вещей, составить огромное количество каких-то вот этих списков, но при этом он не проникает в суть явлений.
Он не способен, например, вывести какие-то законы природы.
Для него закономерности оказываются вне зоны его восприятия.
Обоим путям Бекон противопоставляет так называемый путь пчелы.
Он считает, что это насекомое лучше всего совмещает позитивные стороны, выгодные стороны обоих этих практик.
С одной стороны, она тоже сборщик, как и муравей, собирает нектар.
И тем самым она открывает всё новое и новое, как и муравей, собственно, расширяет сферу своего познания.
С другой стороны, она не ограничивается просто сбором.
Она тоже выстраивает, как паук, вот эти самые математически точные структуры, собственно, строит улей.
Вот на совмещении и того, и другого по Бекону и нужно строить строгое научное знание.
Оно не может быть ограничено только рациональной деятельностью, только вычислительной деятельностью, как того требует Декарт.
Но, с другой стороны, не может быть ограничено и только эмпирической частью.
Оно должно совмещать в себе и то, и другое.
В самом новом органоне Фрэнсис Бекон приводит пример того, как, с его точки зрения, нужно проводить исследования, следуя этим путем пчелы.
Он составляет, по сути дела...
Ну, вот тоже список различных предметов, так или иначе связанных с понятием тепла.
Свечи, звезды, огонь, костер, расплавленный металл и прочее.
Он пытается выяснить, что составляет, собственно, причину тепла.
Почему одни вещи являются теплыми, а другие нет.
Как ни странно, он достигает своей цели вполне корректно.
Анализируя эти явления, просто собранные в некую таблицу, он приходит к выводу, что причиной тепла является скорость движения этих тел или составляющих их элементов.
На самом деле, из нашего времени это открытие кажется блеклым и ничего не значащим.
Мы все прекрасно знаем, что да, действительно, температура тела зависит от скорости движения части, чего в этом такого.
Но проблема в том, что в его времени еще нет термодинамики.
И еще нет атомной физики.
Вообще нет даже учений еще об атомах.
Оно на тот момент было забыто.
Оно существовало в античности, но к моменту, когда Фрэнсис Бекон пишет новый органон, еще оно не было возрождено.
То есть он, не имея ни знания о термодинамике, ни основ атомной физики, сумел с помощью своего метода, который назвал индуктивным,
добыть вот это знание, которое для нас является сейчас абсолютно тривиальным.
А для его времени было абсолютным открытием.
Ну, ему просто не доверяли, что это правда.
Потому что слишком это как-то странно казалось.
Странным казалось.
То есть, в принципе, человек продемонстрировал эффективность своей индукции.
Еще хотел сказать, ну или напомнить, если кто-то забыл, если кто-то все-таки сталкивался с новым эргономом, так или иначе, об учении о четырех идолах.
Четыре идола, являющиеся препятствиями на пути научного познания.
То есть вот у нас есть три пути.
Предпочтительный – это путь пчелы, совмещающий в себе рациональное и эмпирическое опознание.
Но есть еще четыре препятствия, четыре идола так называемых.
Это идолы рода, идолы пещер, идолы площади, идолы театра.
Ну, картиночки очень, наверное, неочевидные.
Подобрал для иллюстрации.
Идолы рода.
Здесь, если приглядитесь, это нарцисс, рассматривающий свое изображение в озере.
Это те идолы, которые связаны с самим человеком и его иллюзорным восприятием себя.
Ну, типичный идол рода – это антропоцентризм.
То есть склонность человека всё рассматривать исключительно через призму самого себя, то, как это всё к человеку относится.
В общем-то, даже Бекон считал антропоцентризм, хотя тот был доминирующей идеологией на тот момент, неким препятствием к опознанию.
Современные постантропологи, наверное, в полной мере бы с этим согласились.
Действительно, антропоцентризм препятствует зачастую познанию, наделяя человеком каким-то фантастическим статусом, которого нет в других организмах, например.
Идолы пещеры.
Почему здесь мужчинин в дворянстве Мольера?
Потому что идолы пещеры по Бекону это огрехи воспитания и обучения.
Это те неправильные сведения, которые вы получили в процессе вашего воспитания или обучения.
В этом, как правило, виноваты ваши учителя и те, у кого вы усваивали эти знания.
Вам могли просто привить неправильные истины вашего учителя.
И от них стоит освободиться в процессе научного опознания.
Их стоит пересмотреть.
Все, чему вас научили.
Идолы площади.
Здесь, конечно, взят канатный плесун из-за ротустры.
Ну, так скажем...
«Идолы площади» — это не относится, на самом деле, к мнению толпы или что-то подобное, нет.
Здесь речь о неправильном использовании слов, неправильном употреблении понятий.
Когда понятие, само понятие может вас смутить и увести не в ту сторону.
Ну действительно, иногда, как вы знаете, спор ведется исключительно о словах, и два человека могут обсуждать одну и ту же вещь, но не разобравшись в том, кто что понимает под ним и тем же словом, да, они могут получить какие-то диаметрально противоположные подходы, например.
Так вот, с точки зрения Бекона, любой спор, любое исследование нужно начинать с прояснения понятий и сведения их к какому-то наиболее общепринятому или принятому в рамках научного сообщества
Понимание наиболее выверенному.
Потому что зачастую именно понятия нас уводят в сторону.
Заставляют неправильно мыслить предмет.
Наконец, идола театра.
Ну, здесь Мерхольдовский театр изображен.
Здесь вполне себе совпадение идет с тем, о чем говорит Фрэнсис Бэкон.
Что он называет театром?
Фактически любая система, так или иначе, теоретически описывающая мир,
в его представлении сравнивается с театральным действием.
То есть любой великий философ, который так или иначе вам представляет картину мира, это одновременно некий великий режиссер, который заставляет, погружает вас в это действие.
И вы уже как зритель или даже участник этого действия, актер, начинаете в этом мире жить.
Так работают любые идеологии, большие религиозные системы.
Человеку предлагают некий буквально театральный мир, в который он с удовольствием включается и начинает в нём существовать, начинает определённым образом себя вести.
Бекон утверждает, что многие из этих театральных конструкций уводят человека от истины, от реальности.
Ну, он, наверное, бы согласился, что многие религии, конструируя некий мир атрибутики, ритуалов, верований, космологических представлений, погружают человека в свое достаточно увлекательное действие, но при этом уводят его от истины.
Также действуют многие политические системы.
На тот момент, когда он творил, политических особых систем много не было.
Но всё-таки политика тоже может увести куда-то не туда.
Проще говоря, идолы театра — это вот крупные конструкции такие, которые уводят человека не туда.
Ото всех этих идолов...
С точки зрения Бекона нужно освободиться для того, чтобы идти по пути научного познания.
Все их надо в себе разоблачить и методично от них избавляться.
Единственный, по его мнению, критерий строгих познаний является опыт.
Только эмпирика, только то, что вы проверяете на собственном опыте, не давайте другим людям затмевать ваше сознание.
Теперь я хочу перейти к самой проблеме истинности.
в научном познании, и предложить уже современный взгляд на то, какие бывают концепции истины.
На самом деле, вот та модель истинности, о которой говорит тот же Фрэнсис Бэкон, тот же Декарт, это классическая модель истинности, которая называется одновременно корреспондентской или корреспондентной.
Что это за концепция истинности?
Это базовое представление об истине как о соответствии знания своему предмету.
То есть некое утверждение должно соответствовать некому положению вещей.
То, что вы говорите, должно соответствовать чему-то, что происходит на самом деле.
Слова должны соответствовать вещам, так скажем.
Или отражать эти вещи.
Одной из широко известных в версии концепции классической и корреспондентской является теория отражения Ленина, например, Владимира Ильича.
С его точки зрения, да, сознание, научное опознание предполагает отражение предмета в понятии.
Это типичная классическая корреспондентская трактовка истины.
Ну и, соответственно, чем мы лучше отражаем, чем лучше в нашем понятии отражается реальное положение вещей, тем мы ближе к истине.
Всё просто, в общем-то.
Уже в 20 веке, в начале даже 20 века, эта самая классическая модель была поставлена под сомнение, как нечто универсальное.
Связано во многом это было с теми же самыми достижениями математики и уже упомянутой мной новой аксиоматикой Лобачевского, Риммана и так далее.
Ну, математики показали, что вы можете иметь на самом деле сразу несколько непротиворечивых в себе систем, которые одновременно будут справедливы, но при этом будут формально противоречить друг другу.
Это же достаточно серьёзное противоречие само по себе.
Ну, как-то так.
Каждый из них корректно описывает действительность, но при этом они друг другу противоречат.
Что это за бред?
То есть как бы в классической модели истинности одна из них, то есть одна из них должна быть истинна, все остальные ложные.
Иначе никак.
Иначе что это за отражение такое?
Иначе получается, что у нас разные зеркала по-разному отражают, что ли?
Или как это?
Математики фактически начинают настаивать, что мы не можем говорить строго о отражении, высказывании некого реального положения вещей, потому что эта реальность нам не сильно-таки и доступна в действительности.
На нее можно посмотреть слишком из большого количества точек зрения и углов.
На самом деле мы должны ориентироваться не на реальность, не на связку реальности и слов, а на законченность наших высказываний.
Ну, изначально логическую завершённость.
Таким образом, если мы конструируем некую непротиворечивую систему
которая позволяет описывать максимальное количество объектов.
При этом она логически связана абсолютно, повторюсь, непротиворечиво.
И главное, что она плодотворна, она позволяет делать множество различных выводов, которые потом могут быть практически использованы ценно.
то этого достаточно для того, чтобы каждое высказывание в рамках этой системы считать уже истинным.
Но только оно будет истинным в рамках этой системы.
И с точки зрения когерентной концепции, когерент – это связанность,
Мы должны заботиться только о целостности систем и непротиворечивости систем утверждений, а не о соответствии этих высказываний реального положения вещей.
Более того, когда вы делаете некое утверждение, вам неплохо бы еще и сделать ремарку, а в какой системе утверждений вы сейчас высказываетесь.
Чтобы тот, кто мыслит в другой системе утверждений, не стал вам возражать, что это не так.
Возможно, просто вы используете одни и те же слова, но мыслите в разных системах.
Но вы можете неожиданно оказаться абсолютно правы оба.
Просто потому, что эти разные слова в разных системах будут немножечко разные вещи значить.
Соответственно, когерентная концепция истины предполагает непротиворечивость самой системы высказываний и их геологическую связанность.
Что касается договорной концепции истинности, она, в общем, достаточно проста и гласит то, что истина — всё, что считается истинным в рамках некого крупного сообщества.
Ну, крупное здесь условно.
Строго говоря, всё, что нынешнее научное сообщество считает истинным, и является истинным.
То есть если специалисты высокого уровня договорились между собой считать некоторое положение вещей, некую систему утверждения истины, то уже её можно признать истиной.
Это такой социологический подход.
То есть просто-напросто мы должны доверять профессионалам, условно говоря.
Потому что они лучше всего в этом разбираются.
А они уж между собой устанавливают, что считать там истинным.
С этой точки зрения истина не вечна и не может быть вечна в принципе, потому что сообщества меняются, перспективы меняются, мнения меняются.
То есть мы должны всегда, разговаривая истиной, делать эту ремарку временную и культурную.
То, что значение высказываний в одну эпоху может быть одних высказываний одним, а в другую совершенно другим.
Теологические утверждения, пользующиеся абсолютным авторитетом в средние века и воспринимавшиеся тогда как абсолютная истина, никто спорить бы даже не стал, даже близко, сейчас многими будут подвергаться диким нападкам и просто вставиться под сомнение очень серьезное.
Но это проблема разных научных сообществ.
Тогда научное сообщество имело консенсус по поводу тех истин.
Сейчас уже не имеет.
Сейчас уже это мнение, может быть, даже маргинализировано, которое тогда считалось истинным.
И с этой точки зрения нам нужно очень аккуратно делать свое утверждение
И в отношении современных истин.
Потому что мы должны понимать, что через несколько веков всё, что мы считаем сейчас абсолютно истинным, неопровержимым, может быть отвергнуто.
И ученые будущего времени, люди будущего времени могут сказать, что это все была полная чушь, заблуждение и просто какие-то детские фантазии.
Запросто.
Вот поэтому договорная концепция истины, она очень страница всякого рода догматизма.
Она всегда ставит любое знание немножечко в кавычки.
Прагматическая она еще более...
цинично, я бы сказал, истинно все то, что работает.
Ну, вы знаете, наверное, сейчас очень модно говорить, там, вот, это работает, да, вот, даже о концепциях каких-то, да, если оно работает.
Ну, вот, прагматическая истина — это об этом.
Если некое знание позволяет достигать определенных результатов человеку в определенных сферах,
то ее уже можно назвать условной истиной.
И пока она, собственно, работает, пока с помощью нее можно достигать результатов, она и будет истиной.
Как только перестанет работать, изменятся условия, изменится культурный фон, все, она отработает и перестанет быть, соответственно, истиной.
У этой концепции есть, конечно, большие недостатки с точки зрения естественников.
Потому что, в общем-то, и магию можно назвать в этом смысле источником истин.
Потому что в некоторых условиях магия работает для некоторых людей на самом-то деле.
Но вот с точки зрения фейерабинда, которого я уже упоминал сегодня, поля, именно поэтому мы не можем однозначно сделать выбор в пользу строгой науки, естественно, и говорить о том, что магия не имеет права на жизнь в современном мире и не имеет права на слово.
Да, если магия сможет где-то локально доказать, что она эффективнее науки, мы обязаны дать ей слово.
Это прагматическая концепция.
Она, конечно, больше мела сердцу всяких гуманитариев.
Естественники ее не любят.
Они, правда, и договорную не очень уважают.
Ну и, конечно, экзистенциальная, это более такая...
Менее известная, более маргинальная концепция, которую развивали Сартр, Хайдегер.
Ну, в первую очередь, Хайдегер, конечно, это алитея, истина несокрытости.
Это истина как некое событие.
То есть, как некое... Ну, если воспользоваться...
языком дзенбудизма, сатари, да, это то, что тебя пронзило, что-то ты в себе открыл, это что-то, что перевернуло твою жизнь.
И оно обязательно эмоционально окрашено, оно не обладает какой-то объективной природой.
То есть экзенциальная истина – это всегда большая жизненная ценность, найденная в трудном противостоянии каким-то сложным обстоятельствам.
Поэтому, например, научные истины, которые добиваются в лаборатории, с точки зрения экзенциальной традиции, они имеют меньший, сниженный статус относительно каких-то глубоких истин, которые добываются в трудном жизненном опыте.
Особенно, когда человек находится на грани жизни и смерти, положим.
Он что-то открывает для себя очень-очень важное.
Но это уже другое.
Это как бы даже не столько концепция истинности, это один из способов говорить об истинности.
Ну и напоследок я хотел бы затронуть такое деление, как деление на науке о природе и науке о духе.
по сути, предтечу нашего современного деления на естественные гуманитарные науки.
Для нас это привычно, даже выбирая, куда, собственно, вы будете поступать после школы, всегда как-то ориентируетесь на вузы именно в этом ключе.
Вы пытаетесь понять, что вы больше гуманитарий, вы больше технарь, там...
или естественник.
И есть чёткое деление.
Уже в школе оно формируется.
Человек больше склонен к физико-математическим наукам или к гуманитарным наукам.
Сейчас это кажется абсолютно чем-то таким фундаментальным.
И к гуманитарию будет очень сложно в техническом вузе всегда.
Всегда печально очень смотреть на вот этих профессоров гуманитариев технических вузов.
Там историк в Бауманке, например, который перед этими вот этими совершенно презирающими его студентами читает эти курсы.
Они вообще не понимают, зачем он перед ними сидит, и зачем ему вообще нужна эта история.
Они надеялись, что уже в школе от них отстали.
Ну, как бы в школе осталась эта история, никому не нужная.
И, наконец, здесь что-то интересное.
Опять перед ними посадили какого-то историка.
Или на философском факультете вышки, опять математика.
И начинается восстание.
Зачем нам математика на философском факультете вышки?
Что за бред?
Мы уже наелись этой математикой в школе.
Сколько можно уже?
Так вот, вот это вот деление, которое сейчас кажется абсолютно органичным и уже всем понятным, вообще-то сложилось сравнительно недавно с исторической точки зрения.
Ну вот...
Один из виновников этого деления перед вами это Генрих Риккерт, представитель Баденской школы неокантианства.
Именно с его работы о науке о природе и культуре о духе, науке о духе, прошу прощения, по сути и началось это деление.
Риккерт
Мишанину, я бы сказал, наук, которая в то время была, тогда этого строгого развлечения не было.
Да, были политехнические вузы, были.
И они отличались от университетов программой.
Были.
Там готовили инженеров.
И там действительно было уклонно в естественные дисциплины.
Но политехнические вузы, они были...
фактически кузницы инженерных кадров, сугубо практически ориентированные.
В классических же университетах не было этого строгого деления все-таки.
Университет как раз предполагал очень разностороннее познание наук.
И
Не было строго гуманитарных университетов, строго технических университетов.
Университет предполагал как раз широту познания, широту восприятия.
Так вот, Рикер задумался о том, как должны быть скорее организованы науки в зависимости от того, с каким предметом они работают и на что они, собственно, нацелены, какие его результаты они пытаются достичь.
И в учении Риккерта появилось такое деление на матетический способ познания и идеографический способ познания.
Что такое аноматетический образ познания?
Это способ познания, характерный как раз для естественников, когда на примере множества явлений, предметов, каких-то образцов ученый пытается выявить определенные закономерности.
Его интересует общее, лежащее в основе множества частных проявлений, и его сами экземпляры не интересуют.
В принципе, этому подходу вполне соответствует метод биологов,
Ищут некие природные закономерности и видят в конкретном индивидууме, в конкретном экземпляре всего лишь представителя того или иного вида.
Его вид интересует.
Описывают они вид, а не индивида.
Индивидам, в общем-то, они могут пожертвовать, уж тем более физики, химики.
Ну, как бы их однозначно интересует не этот конкретный образец материала, не эта конкретная частица, а те закономерности, которые лежат в основе их функционирования, их существования.
То есть естественные науки, по Риккерту, наиболее склонны пользоваться именно этим неоматетическим методом,
предполагающим движение от частного к общему, от частного экземпляра к общему закону.
Условные гуманитарии или представители наук о духе по Рикерту склонны пользоваться скорее идеографическим методом.
Идеографический метод, напротив, нацелен на выявление особенного,
Общее его мало интересует.
Хотя, конечно, тоже гуманитарии часто задаются вопросом о каких-нибудь закономерностях, лежащих в основе исторических процессов.
Но это точно не является их основной целью.
Как правило, гуманитарии занимаются исследованием вот этих самых частных образцов.
Историки, соответственно, конкретных фигур или эпох, или явлений, или событий.
Причем они все согласны с тем, что столетняя война, например, это уникальное событие, которое никогда до этого не происходило, никогда больше не повторится в том виде, в котором оно было.
Наполеон — это уникальная фигура.
До этого Наполеонов не рождалось и больше не будет.
Мы можем метафорически кого-то сравнить с Наполеоном, но это уникальная фигура, которую они изучают с большим интересом.
То же самое филологи.
Каждое произведение рассматривается как нечто абсолютно уникальное.
И эта уникальность является той ценностью, которую они ищут.
Как мы видим, подход естественников к науке и...
представителей наук и культуры принципиально отличается.
Поэтому, когда, например, естественники приходят в стан историков и начинают пытаться употреблять свои методы, те начинают сопротивляться.
И это логично, потому что естественники будут всегда, по Рикерту, игнорировать частное, их оно не интересует, и всегда сводить к общему.
А напротив, гуманитарии всегда будут слишком много внимания уделять этому частному и слишком мало заботиться об этих общих закономерностях.
Но с точки зрения Виккерта это хорошо.
Оба эти пути познания друг друга компенсируют.
Одни занимаются больше общими закономерностями, другие более частными особенностями.
И должно существовать и то, и другое.
В наше время, в нашу эпоху, начинает немножечко размываться в действительности представление неокотианское о строгом гномотетическом и географическом методе.
Уже в его время находились люди, которые вот это строгое отделение стали под сомнение.
Но все-таки оно было сильно, именно поэтому сложилось такое деление на гуманитарные и естественные специальности в результате.
Но сейчас, наверное, очередной раз происходит своего рода такой пересмотр этих границ.
гуманитарии, находящиеся в авангарде своей науки, все чаще обращаются, например, к количественным методам своих исследований.
Я уже сегодня упоминал о Data Science.
Data Science используют активные гуманитарии.
И оказывается, что при привлечении больших данных можно удивительным образом сочетать интерес к частному, к особенному,
и в то же самое время находить определенные закономерности.
То есть как бы действовать, мыслить сразу и как гуманитарий, и как естественник.
Можно быть философом-программистом запросто.
Причем начать эту траекторию можно и с того, и с другого.
Можно из философии уйти в программирование, можно и с программирования в философию.
Они друг другу не противоречат.
Хотя в строгом деревне Рикеровском, конечно, это странно.
Совмещать эти две стратегии, которые друг другу противоположны.
Но действительно, в некотором смысле мы живем в очередном переломе научном, когда переформатируется само представление о научном познании.
И я бы назвал это время временем гибридов.
То есть происходит стремительная гибридизация науки.
В результате этой гибридизации рождаются все новые и новые отрасли, которые, наверное, вообще были бы непредставимы еще несколько десятилетий назад.
Биосемиотика.
Блин, биосемиотик.
Что это за фигня?
То есть...
Организмы, с одной стороны, биологический интерес, с другой стороны, чисто филологические концепции, семиотические построения.
Какая-то странная коллаборация лингвистов и биологов.
Что за ерунда?
Биоинформатика.
Какие-то странные коллаборации, которые классической науке абсолютно несвойственны.
Но мы живём сейчас в так называемом пространстве постнеоклассической науки.
Термин, соглашусь, абсолютно неказистый и неприятный для использования.
Он принадлежит академику Стёпину.
Я думаю, что мы еще обратимся к нему, я более подробно потом расскажу, когда-нибудь, что Степин подразумевал под классической, неклассической, постнеклассической рациональностью.
Сегодня я уже не буду вас этим грузить, я думаю, что и так много информации получено.
Но вот просто остается констатировать, что вот мы находимся в некой
постнеклассической эпохи.
Ей свойственны всякие, всякого рода такие вот странные явления науки гибриды.
Вот.
На этом, я думаю, мы сегодня заканчиваем.
Все-таки мне не удалось вас спровоцировать на вопросы по ходу дела.
Слишком много было моей болтовни.
Поэтому давайте вот сейчас будет время, когда можно задать вопросы.
Да, пожалуйста.
Большое спасибо за лекцию.
У меня такой вопрос.
Получается, когда вы перечисляли виды рациональности, была классическая и дальше ряд пунктов.
То есть это все уже не классические, или все-таки это классические, и после них будут не классические, и потом после не классические?
Я вот не стал сейчас раскрывать это последнее деление, чтобы вас не грузить, но вас оно, видимо, заинтересовало очень.
Ну вот она была первая классическая.
Классическая, неклассическая, постнеклассическая.
Да, и вот получается в списочке, которую мы смотрели несколько слайдов, как раз была классическая и дальше вот... Это классическая концепция истины.
Да.
Ну, ее можно ассоциировать с классической рациональностью, хотя она не строго совпадает с классической рациональностью.
Дело в том, что классическая концепция истины, если вот чисто хронологически посмотреть, классическая концепция истины характерна для не только античности, не только эпохи Возрождения, но и для всего Нового Времени.
В общем-то, у нас и сейчас есть большое количество сторонников этой классической концепции истинности.
Я бы даже сказал, что большинство людей, работающих в науке, так или иначе, придерживаются именно классической модели истинности.
И не классические модели истинности или концепции истины, они начали появляться только в 20 веке на самом деле.
То есть, я уже сказал, что когерентная, она скорее в начале 20 века на фоне успеха в математике появилась договорная, прагматическая еще позже.
То есть, водораздел в переходе от классической модели истинности к неклассическим,
Это примерно начало 20 века.
Ну, условно, не могут возразить, могут найти там примеры чуть пораньше, но всё-таки основной переход совершается где-то на рубеже 19-20 века.
А вот в Стёпинской модели переход от классической рациональности к неклассической рациональности, он происходит чуть раньше.
В то время, когда в науке начинает играть огромную роль инструмент познания, когда он формирует наше восприятие.
Когда, например, ученые начинают активно пользоваться амперметрами, какими-нибудь микроскопами, то есть техническими методами, позволяющими сильно расширить способности нашего восприятия.
Увидеть то,
что мы не видим глазами, например.
Вот именно введение технических средств и совпадает у Стёпина с переходом в неклассическую рациональность.
Я просто не хотел, жалко, наверное, зря сказал, что возбудил интерес к этой отрасли, не имея возможности полностью это все объяснить.
Там достаточно большая схема, ее надо рисовать, ее надо обсуждать.
Не на полчаса, но минут на 20 точно.
Просто, к сожалению, сейчас разворачивать ее не смогу.
Большое спасибо.
И можно еще маленький вопрос?
В заглавии лекции числился Декарт, но в процессе мы много с кем еще познакомились, услышали.
И во время лекции упоминалось соотношение слова и вещи.
Вот где-то в будущем нас может ожидать Фукоев или не обязательно?
Я Фуко, естественно, обязательно Фуко затрону.
Да, но уже, я думаю, где-то в четвертой лекции.
В четвертой-пятой.
Спасибо.
Еще какие-нибудь вопросы есть?
Давайте.
Можно ли сказать, что в современной науке в последних лет 20, наверное, есть определённая тенденция к преобладанию чисто эмпирического метода, который, если я правильно запомнила, метод муравья по Бекону, что с развитием технологий, компьютеров, возможности использования точных приборов и так далее…
собирается огромный чудовищный массив эмпирических данных, который было невозможно собрать ещё полвека назад.
Но при этом учёное сообщество не успевает обрабатывать весь этот массив данных, поскольку их собирается больше, чем есть людей, чтобы их осмыслять, и система построена в современной науке с необходимостью
предоставлять отчётности, набрать определённое количество цитирований, чтобы отчитаться за свою работу и так далее, требует большего акцента на сборе всё больших и больших данных и меньшего акцента на их разработке.
Потому что, например, я учусь на психолога, поэтому мне ближе психологический аспект, что, скажем, ещё где-то в середине XX века была скорее такая система, что кто-то из учёных-психологов делал какое-то количество экспериментов,
А потом на основе этих достаточно немногочисленных экспериментов мог написать по 10 книжек, осмысляя их, подводя разные рационализации, теории, сопоставляя свои данные с чужими данными.
И на одном эксперименте можно было написать 500 страниц, которые до сих пор цитируются.
А сейчас каждый ученый-исследователь год выпускает по несколько эмпирических статей, но при этом полученные эти данные так и не обобщаются ни в какую общую систему, и мало кто, в принципе, может осмыслить все особое количество данных.
Хороший вопрос.
Измаид как раз в отрасли, если говорить о философии, ситуация совершенно по-другому выглядит.
Хотя допускаю, что в других дисциплинах как раз наблюдается доминирование муравьиной логики.
Философам-то кажется как раз, что успевают они, по крайней мере, существенно успевают осмысливать.
Да, данных очень много, но, так скажем, и аналитического инструментария тоже немало, и он всё больше совершенствуется.
Но я могу ошибаться относительно той же самой психологии, например.
Я согласен с тем, что благодаря техническим средствам накопление данных сейчас идет гораздо большими темпами, чем век назад.
Тогда просто для того, чтобы, например, зарегистрировать какие-то результаты наблюдения, эксперимента психологического, надо было совершить определенные усилия.
Надо было протокол банально составить, например, этого исследования.
И уже в процессе составления протокола, в общем-то, ты автоматически начинал потихоньку раздумывать о том, к каким выводам ты придешь в результате этого исследования.
Сейчас, действительно...
Слишком много носимой электроники или средств фиксации, слишком много источников данных для того, чтобы тебя нашли средства, чтобы это все осмысливать.
Но, на мой взгляд, значительная часть этих данных, так же, как и, собственно, это было в эпоху Бекона, представляет собой некий шум информационный.
Сейчас, как мне кажется, возросла значимость компетенции по отбору из этого информационного шума действительно значимых данных.
И если, например, говорить о нейросетях, которые обрабатывают эти данные, как известно, эффективность работы нейросетей во многом зависит от качества данных.
То есть количество данных в действительности не такую большую, как казалось, роль играет, нежели качество данных.
И, на мой взгляд, сильные ученые, они все-таки приобретают навык очищения данных для того, чтобы более эффективно с ними работать.
Например, они там, не знаю, работают не с какими-то непроверенными базами, а с более такими, с гарантированно чистыми с точки зрения данных.
Хотя сама по себе я согласен, проблема есть.
Действительно, данных огромное количество, дикое количество.
Вы наберете по любой теме
Запрос даже в e-library, систему научных статей, и у вас там выйдет несколько тысяч, как правило, публикаций в научных журналах.
Ну и сидите целый вечер там, копайтесь в них, это кошмар просто.
Но в этом смысле я не думаю, что мы как-то принципиально отличаемся от ученых нового времени.
Там тоже было очень много шлухи.
Им тоже приходилось в этом всем ориентироваться, просто в другом немножечко.
А там было много бумажных текстов.
А там все как сумасшедшие писали со всех сторон.
И тоже все как сумасшедшие публиковали, и зачастую там какие-то совершенно безумные вещи.
И тоже надо было в этом всем ориентироваться.
С этой точки зрения, знаете, есть такой фильм, если не ошибаюсь, французский, «Последние дни Канта» называется.
И там есть сцена, когда Кант сидит с друзьями за столом.
Ну, там действительно была такая привычка, они обеды устраивали общие.
И вот они обсуждают о том, сколько приходится усваивать современного им, студенту.
Напомню, Кант – это конец XVIII века, 90-е годы, судя по всему, по фильму.
И вот Кант сетует на том, что современный студент не способен уже освоить всё, что предлагает наша библиотека университетская.
Слишком много томов стоит на полках.
Невозможно это все прочесть.
Вот когда я был еще молодым, мы еще могли как-то претендовать на какое-то объемное более-менее знание.
Мы могли еще и в физике ориентироваться, и в каких-нибудь метеорологических науках и так далее.
Но сейчас это какое-какое огромное количество информации.
Невозможно это все освоить.
сетовали ученые просвещения эпохи.
Ну, если бы они увидели то, с чем сейчас мы сталкиваемся, они просто... А с другой стороны, не знаю...
На мой взгляд, справедливость Беконовского деления никуда не ушла.
Действительно, иногда у ученых бывает перекос в сторону эмпирики дикий.
Слишком много эмпирических данных, слишком мало аналитики.
А у некоторых, наоборот, перекос в сторону аналитики.
Есть вот эти немножечко аутичные ребята, которые, получив совсем мало информации, начинают выстраивать какие-то очень сложные теории на её основе.
И выстраивают какие-то фантастические модели совершенно, психодрические.
И этот перекос, судя по всему, как тогда был, так и сейчас остался.
Он никуда не ушел.
И действительно продолжает оставаться актуальным призыв Бекона к тому, чтобы балансировать то и другое, следить за тем, чтобы у тебя не был перекос ни в аналитику, ни в эмпирику.
Спасибо большое Фрэнсису Бекону, что он указал на это.
Продолжение следует...
Похожие видео: Андрей Гасилин

Тёмное Средневековье — правда или ложь? Евгений Жаринов, Николай Жаринов и Станислав Жаринов

Эллинизм: Как рождалась вся западная цивилизация. Евгений Жаринов

Дмитрий Хаустов: Сюр-экзистенциализм. Сартр, Батай и философия"

Незнание экономических законов погубило СССР — погубит и Путина

М. И. Цветаева. Лирика. Видеоурок 14. Литература 11 класс

